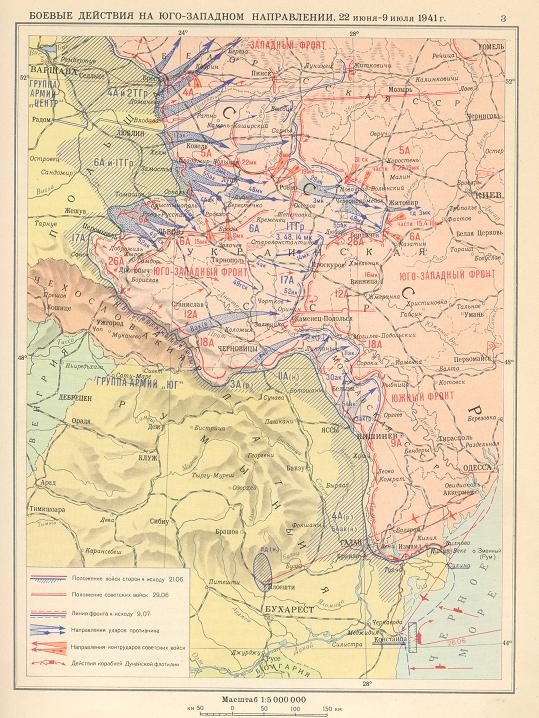
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
Н.К.Попель. Перед выдвижением к Самбору.
Такими же интересными и содержательными как воспоминания командира 8 МК Рябышева, части которого по плану КОВО-41 начали марш в район Самбора, явлются воспоминания дивизионного комиссара 8 МК Н.К.Попеля. Его мемуары позволяют увидеть события первых дней войны, если можно так выразиться, в "человеческом измерении" - чувства, мысли, действия солдат, на долю которых выпала тяжесть перых утрат и отступлений. Н.К.Попель рассказывает:
— На провокации не поддаваться, по германским самолетам огонь не открывать. Ждать приказа.
И именно в этот момент до нашего слуха донесся тяжелый, прерывисто-надрывный гул моторов.
Все выскочили на улицу. Уже рассветало. «Двадцать второе июня, самый длинный день», — мелькнуло в сознании.
Поднималось солнце, и навстречу ему летели тяжело груженные бомбардировщики Гитлера. Они развернулись над городом и пошли на снижение. Кресты на крыльях, известные нам по альбомам опознавательных знаков и схемам, были видны простым глазом. Видны были и черные точки, отрывавшиеся от самолетов.
Бомбили прицельно: железнодорожную станцию, подъездные пути, нефтеперегонный завод и наши казармы. (Фашистская разведка не знала, что они опустели несколько дней назад). Отбомбившись, не спеша сделали круг над городом. Чего им было спешить — ни одного нашего истребителя, ни одного выстрела зениток!
За первой волной вражеских самолетов появилась вторая. Теперь бомбардировке подвергся центр города, кварталы, где жили командирские семьи
Рябышев схватил меня за руку:
— Пойдем!
На ходу бросил оперативному дежурному:
— Соединить с зенитной бригадой.
Закрыл за собой дверь кабинета и, не говоря ни слова, посмотрел мне в глаза. Мы уже были знакомы больше года. Отношения между нами определялись короткой и емкой формулой: душа в душу. Нам не нужно было долго объясняться.
Я молча кивнул головой. Рябышев положил руку на трубку, секунду помедлил и подал команду:
— Открыть огонь по самолетам противника.
Мы замерли у окна, напряженно прислушиваясь. В грохот бомб вклинились разрывы зениток. И только тут для нас стало совершенно ясно: началась война!
Бомбежка продолжалась сравнительно недолго. Наша зенитная артиллерия пришлась, видно, не по вкусу немецким летчикам (потом выяснилось, что, хотя зенитчики стреляли не особенно удачно, четыре самолета они все же сбили).
Мы с Рябышевым вышли в коридор. Здесь стояли командиры и политработники управления корпуса, которые всего лишь несколько минут назад невесело перешучивались по поводу еще одной ночной тревоги, испортившей воскресный день. Теперь они молчали, сосредоточенные, взволнованные, суровые. Смотрели на меня и Рябышева, ждали нашего слова. Но мы знали примерно столько же, сколько и они. У нас даже приказа не было.
Однако я почувствовал, что должен, обязан сказать им хотя бы несколько слов от имени партии, которой они беззаветно верили, к которой обращались с надеждой и упованием. У меня не было времени на то, чтобы собраться с мыслями. Но я был подготовлен к этой речи всей своей жизнью армейского коммуниста, с молодых лет усвоившего, что империализм никогда не примирится с потерей одной шестой земной тверди, что фашизм был и остался самым яростным врагом моей социалистической Родины
Только я кончил, ко мне наклонился оперативный дежурный и шепотом доложил:
— Звонила ваша дочь. Говорит, неподалеку от них упала бомба. Я объяснил ей, что это маневры.
Ничего не оставалось, как поблагодарить капитана за наивную и бессмысленную ложь.
Все мы были охвачены в тот момент тревогой за семьи. И очень скоро семьи сами заявили о себе.
По снова ставшим тихими утренним улицам, окутанным пылью и дымом недавней бомбежки, бежали женщины, старики, ребятишки. Едва одетые, многие в ночных рубашках, окровавленные, обезумевшие от неожиданного бомбового грохота, они устремились к штабу.
Я с трудом узнал в толпе Надежду Савельевну Крестовскую — жену военинженера 3 ранга. На вечерах самодеятельности, она, красивая, знающая себе цену, в платье до пола, легко и уверенно взбегала на сцену, кивала старшине-аккомпаниатору и пела алябьевского «Соловья»... Теперь Надежда Савельевна была растрепана, из-под халата торчала рубашка, на руках у нее — полуголая девочка лет трех с откинутой назад черноволосой головкой. Я тихо спросил:
— Ранена?
— Убита.
Кровь детей и женщин — первая кровь, какую я увидел в эту войну...
Надо было немедленно организовать помощь. Поручил секретарю парткомиссии старшему батальонному комиссару Погодину и инструктору отдела политической пропаганды стар шему политруку Сорокину заняться командирскими семьями. Для потерявших кров решили устроить общежитие в Доме Красной Армии. Раненых направили в госпиталь.
Но каждое дело — для нас это было пока что непривычно — наталкивалось на сотни непредвиденных препятствий. Госпиталь, оказывается, сам пострадал от бомбежки. Среди больных и персонала — раненые, убитые.
А к штабу все подходили и подходили женщины. То один, то другой командир выскакивал на улицу...
Связь штаба с дивизиями и отдельными частями была нарушена — фашистские бомбы порвали телефонные и телеграфные провода. Послали нарочных. И тут выяснилось, что вокруг Дрогобыча, а также в самом городе орудуют гитлеровские парашютисты, переодетые в красноармейскую форму.
Вскоре начальник разведки корпуса майор Оксен (Рябышев называет его должность иначе - начальник особого отдела -военной контрразведки - корпуса - Авторы сайта)доложил, что несколько таких диверсантов поймано.
— Я поинтересовался, — сообщил Оксен, — что они знают о нашем корпусе. Оказывается, немало. Можно ждать любых провокаций. Надо, чтобы люди имели это в виду.
К словам Оксена, опытного разведчика, в прошлом питерского рабочего, я привык прислушиваться.
Тем временем связисты восстановили проводные линии. Сведения, полученные по радио и подтвержденные потом офицерами связи, помогали составить общее представление. Части корпуса от бомбежки почти не пострадали. Но были жертвы среди командирских семей.
Кто-то из женщин произнес слово «эвакуация». Его подхватили. Многие командиры не прочь были бы отправить семьи из приграничной зоны.
Мы понимали этих людей. Но согласиться с ними не имели ни права, ни основания. Кроме того, у нас с Рябышевым не было твердого убеждения в необходимости эвакуации. Эшелоны с семьями могли подвергнуться бомбардировке и на станции, и в пути. Здесь же, на месте, мы, несомненно, наладим противовоздушную оборону. С минуты на минуту — кто в этом сомневался? — появятся наши «ястребки». Дней через пяток, через неделю, а крайнем случае через две, отразив атаки врага, мы сами перейдем в наступление...
Несправедлив будет тот, кто упрекнет нас в розовеньком бодрячестве. Мы верили в свои силы, в свое оружие.
Нам было известно, что численность войск по ту сторону Сана больше, чем по эту. Но, во-первых, мы считали, и совершенно справедливо, что не только численность решает успех сражения. Во-вторых, мы оперировали лишь теми сведениями о противнике, какими располагали. А они, как потом выяснилось, были далеко не полными. В частности, мы не знали о соединениях, которые имперский штаб подвел к границе в самые последние дни и часы. Мы слабо представляли себе состав и мощь немецких танковых группировок, боевые свойства и возможности вражеских танков.
...Прибежал начальник ДКА:
— Что делать?
Сколько раз в течение дня слышал я этот вопрос. В нем звучали уверенность в себе и готовность исполнить свой воинский долг. Но кое у кого проскальзывали и нотки растерянности.
За Дом Красной Армии я не тревожился. Как ни трудно было, но его энергичный начальник вместе с Погодиным и Сорокиным организовали в нем убежище для потерявших кров. А вот начальник гарнизонного Военторга настолько потерялся, что от него ничего нельзя было добиться. Он все время повторял одну и ту же фразу: «Прикажите вывезти склады». Я ему такого приказа, конечно, не дал. Обязал продолжать торговлю и развернуть полевую столовую для штаба.
Явился начальник ансамбля, потом — начфин, потом...
Я чувствовал, что лихорадочная текучка может захлестнуть с утра, и не нащупаешь главного.
Решил съездить в обком. По дороге заскочил домой. Прямо перед домом — воронка. Вбегаю на второй этаж. Двери настежь. Навстречу бросается Лиза, старшая дочка.
— Живы?
— Живы. Только вот мама что-то нездорова. Жена, бледная, лежит на диване. Слышит плохо, с трудом говорит. Контузия.
— Ходить можешь? Виновато улыбается:
— Могу, наверно.
— Отправляйтесь в подвал. Там и обосновывайтесь. Тебе, Лиза, командовать.
Забегая вперед, хочу похвастаться: десятилетняя Лиза и впрямь «командовала». Не страшась бомбежек, бегала в магазин за хлебом, носила воду.
Я прошел по ставшим такими непривычными комнатам. Под ногами хрустело стекло. Воздушная волна вырвала оконные рамы, и куски их валялись на полу.
Опускаясь вниз, зашел в квартиры политработников Вахрушева и Чепиги. Посоветовал их семьям тоже перебираться в подвал.
— А как насчет эвакуации?
Я отрицательно покачал головой...
В обкоме обстановка напоминала наш штаб. Хлопали двери, сновали люди. Никто не шел потихоньку, вразвалку.
С секретарем обкома говорил считанные минуты. Знал он не многим больше нас. По ВЧ ему сообщили, что бомбардировке подверглись Киев, Львов и другие города Украины.
Тут же решили, что милиция и наркомвнудельцы вместе с нашими частями займутся ликвидацией диверсионных банд. Передал обкомовцам все, что узнал от Оксена. Обсудили меры борьбы с пожарами. Согласовали организацию местной ПВО.
В мирное время мы, армейцы, все время дорожили контактом с обкомом. И теперь без такого контакта я тоже не мыслил свою работу.
— Семьи эвакуируете? — спросил секретарь.
— Нет.
— Ну, и мы нет...
Когда возвратился из обкома, настроение у меня было лучше, чем когда ехал туда. Я осязаемо почувствовал единство наших устремлений. Невольно представил себе, как в эти часы во всех партийных комитетах, от первичной организации до ЦК, склоняются над картами люди и принимают решения.
Партия поднимала народ. И народ шел за ней, исполненный достоинства и веры, готовый грудью и кровью защитить завоеванное, добытое, взращенное.
Коротко доложил о разговоре в обкоме Рябышеву. Он выслушал, ни о чем не спросил. Потом сказал:
— Приказа еще нет. Вызвал командиров частей и заместителей по политчасти. Заслушаем.
Наконец, ровно в десять часов, представитель оперативного отдела штаба армии привез приказ: корпусу к исходу 22 июня сосредоточиться в лесу западнее Самбора. Частям предстоял марш на 70-80 километров, теперь вызванным к нам командирам и политработникам можно было ставить определенные задачи.
Пока шло совещание, я присматривался к замполитам, старался понять, что происходит в душе у каждого. Я неплохо, как мне казалось, знал этих людей, их возможности, склонности. Но знал по дням мирной службы, когда бомба или пуля не могли помешать выполнению самого сложного задания, а «убитые» на учениях дымили папиросами, лежа под деревцем и вызывая зависть живых.
Теперь вступал в действие новый фактор. Снаряд не признает субординации, не считается с должностями и званиями. Броня танков у начальствующего состава ни на миллиметр не толще обычной.
Короче говоря, меня в этот час больше всего интересовала личная смелость политработников. Она представлялась мне высшим проявлением их политической зрелости.
Я посмотрел на полкового комиссара Лисичкина. По его виду нельзя было предположить, что несколько часов назад началась война. Гладко выбрит (когда успел?), гимнастерка отутюжена, симметричные складки упираются в пуговки нагрудных карманов, над левым карманом, в розетке, — орден Красного Знамени. Лисичкин, как всегда, деловито сосредоточен. Одинаково внимательно слушает то, что говорит начальство, и то, о чем ведут речь другие замполиты.
Лишь один человек показался мне странно рассеянным, сверх меры возбужденным. Я едва узнавал обычно подтянутого или, как у нас в армии говорят, «выдержанного» Вилкова. «Эко, брат, тебя взбудоражило, — думал я, поглядывая на сидящего в углу полкового комиссара.— И карандаш ты зачем-то сточил уже наполовину, и на окна почему-то поглядываешь все время».
После совещания я подошел к Вилкову.
— Кажется, вы хотели о чем-то спросить?
— Нет, не собирался... Что же, все ясно. И вдруг как-то беспомощно добавил:
— Страшная это штука — бомбежка. Меньше всего хотелось читать Вилкову нотации, оглушать его громкими словами. Я понимал: надо тактично приободрить человека, привести подходящий «случай из жизни». Но такой случай сразу не подвертывался. Единственное, что пришло на ум — эпизод из действий 11-й танковой бригады в Монголии. Бригада на марше неожиданно попала под удар с воздуха. Наших истребителей вызвать не успели. Однако люди не растерялись. Отразили налет своими средствами и почти не понесли потерь.
— Об этом стоит рассказать бойцам, — посоветовал я. — Очень важно не дать противнику запугать наших людей.
Вилков согласно кивнул.
А в том, что бомбежка — «страшная штука», мне самому пришлось вскоре убедиться.
На нашем совещании отсутствовали полковник Васильев и полковой комиссар Немцев. Приказ для их дивизии передали по радио и послали в пакете — нарочным на броневике. Кроме того, я должен был подтвердить его устно. Во избежание всяких неожиданностей, мы дублировали связь. Заодно я собирался совершить с этой дивизией и марш.
Моя «эмка» и штабной броневичок, не отставая друг от друга, мчались по разбитой проселочной дороге. Но вражеские самолеты держали под наблюдением все коммуникации и рокады. Нас вскоре заметили и стали преследовать. Езда превратилась в сумасшедшую гонку. Шофер резко тормозил, неожиданно сворачивал в сторону, петлял по полю.
И тут я впервые за это утро увидел наш истребитель И-16. Но больно было смотреть, как этот один-единственный «ишачок» самозабвенно бросился на десять — двенадцать немецких истребителей и буквально через мгновение, оставляя хвост пламени и дыма, рухнул на землю.
Где вся наша авиация? Почему бездействует?
— На кой шут под самым носом у Гитлера делать аэродром?
Прибыв на место, я с радостью узнал, что дивизия Васильева, рассредоточенная в лесу, совсем не пострадала от бомбежек. Но командиры беспокоились за семьи, оставшиеся в военном городке. Они видели, как на городок пикировали бомбардировщики и взмывали вверх, словно подброшенные тугими, черными клубами.
Каждую минуту ко мне кто-нибудь обращался с вопросом:
что творится в городке? Я хорошо понимал тревогу командиров, которым предстояло вот-вот идти в бой. Но помочь им не мог. Я не заезжал в городок и теперь очень жалел об этом.
— Вы, конечно, к майору Сытнику? — улыбнулся Васильев.
Я подтвердил его догадку. Наверное, у каждого старшего начальника есть наиболее близкие части или подразделения. С их бойцами у него наладились особенно дружеские отношения, и для них он тоже «свой». Каюсь, у меня были такие части в каждой дивизии. К их числу относился и батальон майора Сытника.
До батальона было рукой подать, и через несколько минут я был уже там. Смешанный запах бензина, солярки и выхлопных газов перебивал лесной дух. Жадно вдыхал я этот родной для танкиста воздух.
Первое, что бросилось в глаза,— надписи на машинах. Никто не давал команды, более того — на броне не полагалось писать. Однако борта укрытых ветками танков были расписаны мелом.
«В бой за Родину!», «Смерть фашизму!», «Даешь Берлин!», «Да здравствует коммунизм!», «Водрузим над землею красное знамя труда!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,— читал я, переходя от машины к машине.
— Сочиняли вместе с замполитом Боярским, — деловито доложил Сытник.— Под этими лозунгами прикончим Гитлера и пройдем по главной берлинской магистрали, которая, как установлено, называется Унтер-ден-Линден.
Последнее слово далось комбату нелегко, но он со второго или третьего захода при помощи старшего политрука Боярского все-таки осилил его.
Люди были возбуждены и нетерпеливы. Они испытывали потребность говорить, делиться тем, что горело в сердце.
— Почему ждем, теряем время?
— Скорее бы...
В каждом слове — искренний порыв, готовность к подвигу.
Когда узнали, что предстоит марш к Самбору, закричали «ура». Понимали: это в бой.
Спрашивали о положении на границе, о бомбежках, о нашей авиации.
Один из танкистов поинтересовался германским пролетариатом — не восстал ли он против фашизма. Горячо спорили о сроках войны. Над тем, кто сказал «полгода», посмеялись, обозвали маловером.
Я слушал споры, старался рассудить спорящих, выкладывал свои соображения.
Вспоминая сейчас разговоры первых часов войны в лесу юго-западнее Львова, я понимаю: нам не хватало тогда представления о масштабе и характере предстоявших испытаний. «Нам» — значит и красноармейцам, и командирам. Не делаю исключения для себя. Хотя, не кривя душой, скажу: я не смеялся над танкистом, предположившим, что война продлится шесть месяцев.
Ныне уже трудно отделить мысли и чувства тех дней от пришедших позже, рожденных опытом последующих лет и событий. Я мог предполагать и, кажется, предполагал, что война, возможно, продлится и полгода, и год. Но не сомневался, что бои из приграничной полосы перенесутся вскоре на территорию сопредельных государств, а затем — Германии.
Нашу беседу прервала такая знакомая, но прозвучавшая теперь особенно остро и напряженно команда:
— По машинам!
Источник: Попель Николай Кириллович В тяжкую пору Проект "Военная литература": militera.lib.ru Издание: Попель Н.К. В тяжкую пору. — М.-СПб.: Terra Fantastica, 2001. Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/popel1/index.html Иллюстрации: нет OCR, корректура, html: Китоврас (kitowras@mail.ru) Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)
| Главная страница | Начало войны | Юго-Западный фронт |
При перепечатывании материалов сайта активная ссылка на сайт обязательна!
Copyright © 2003-2009